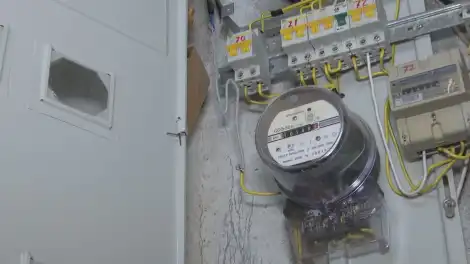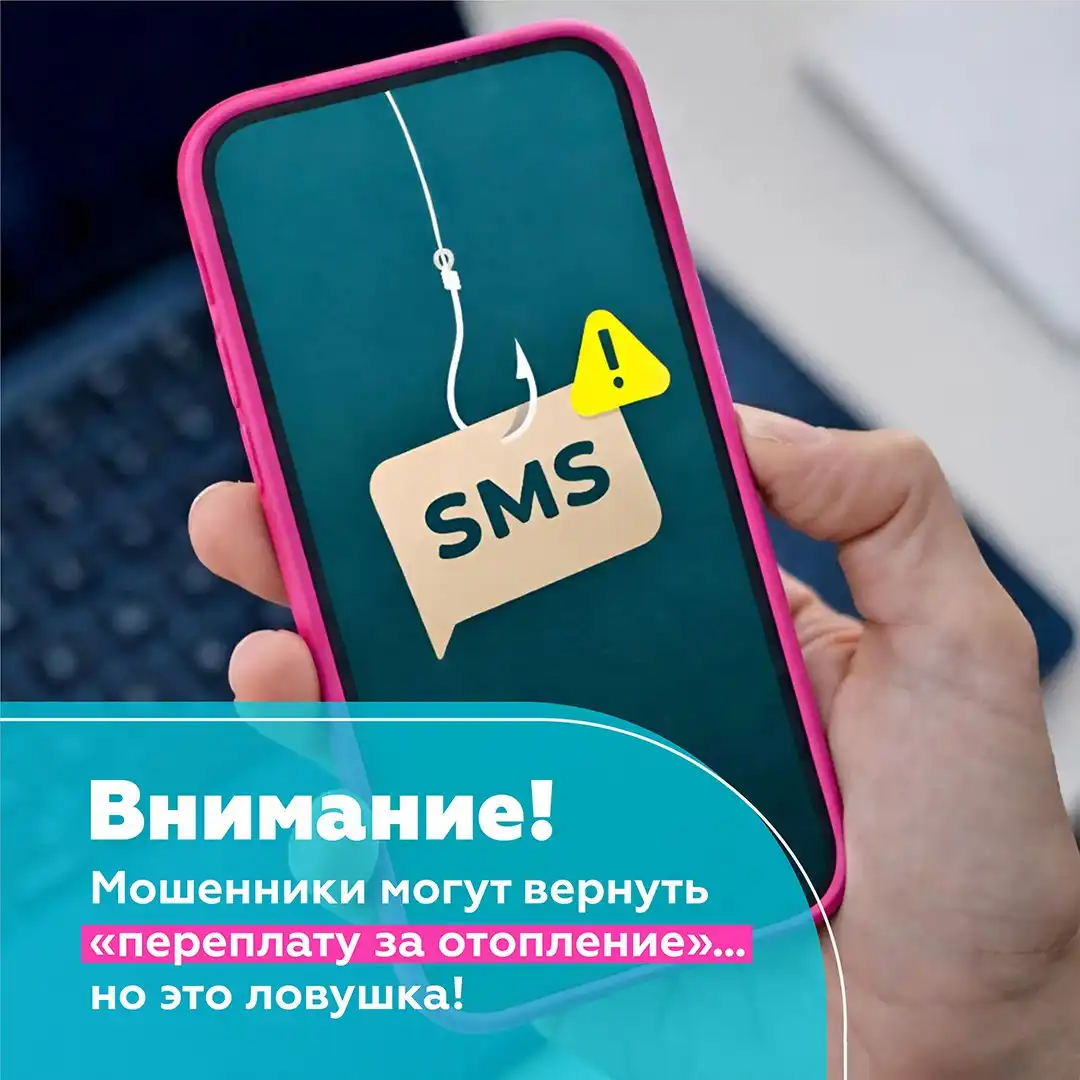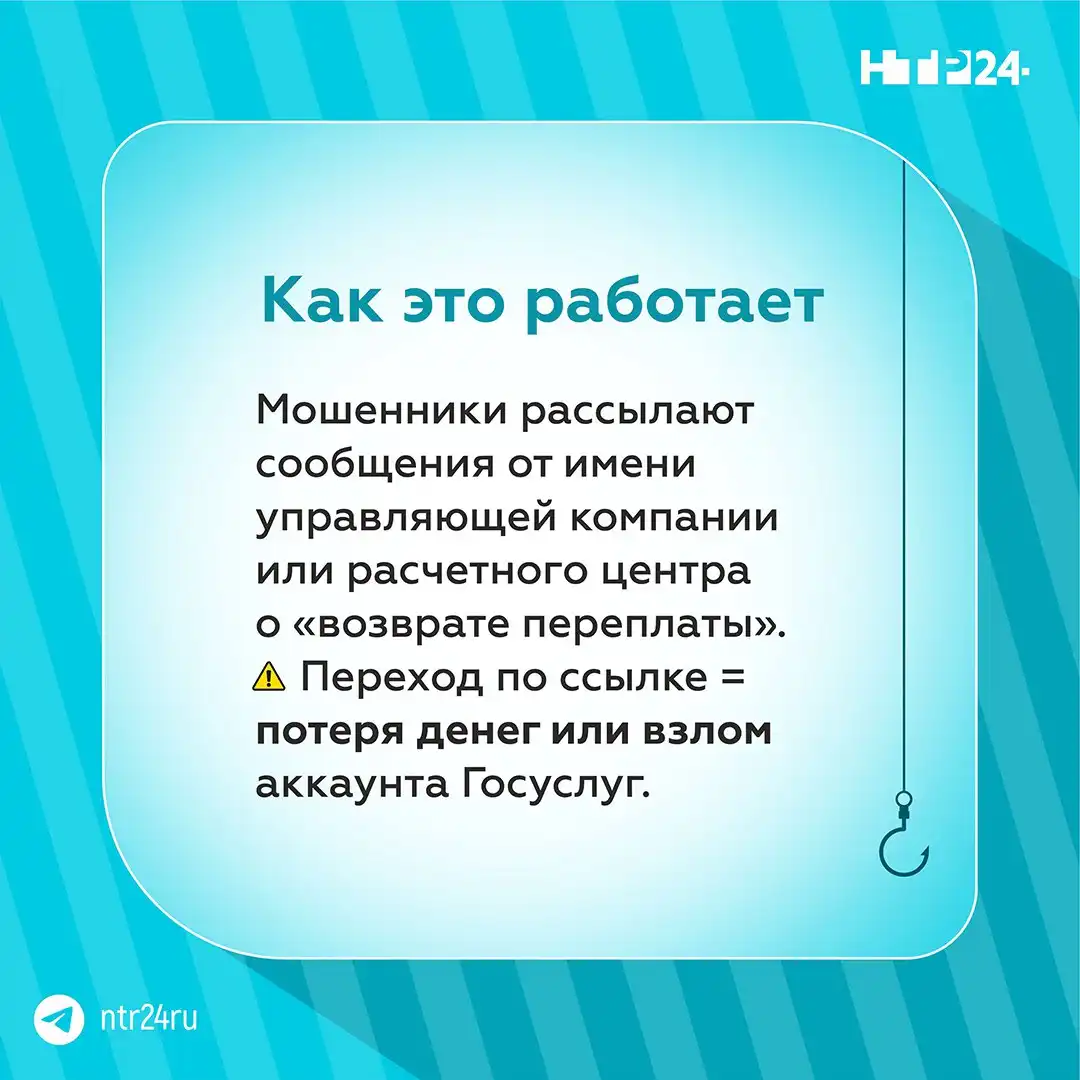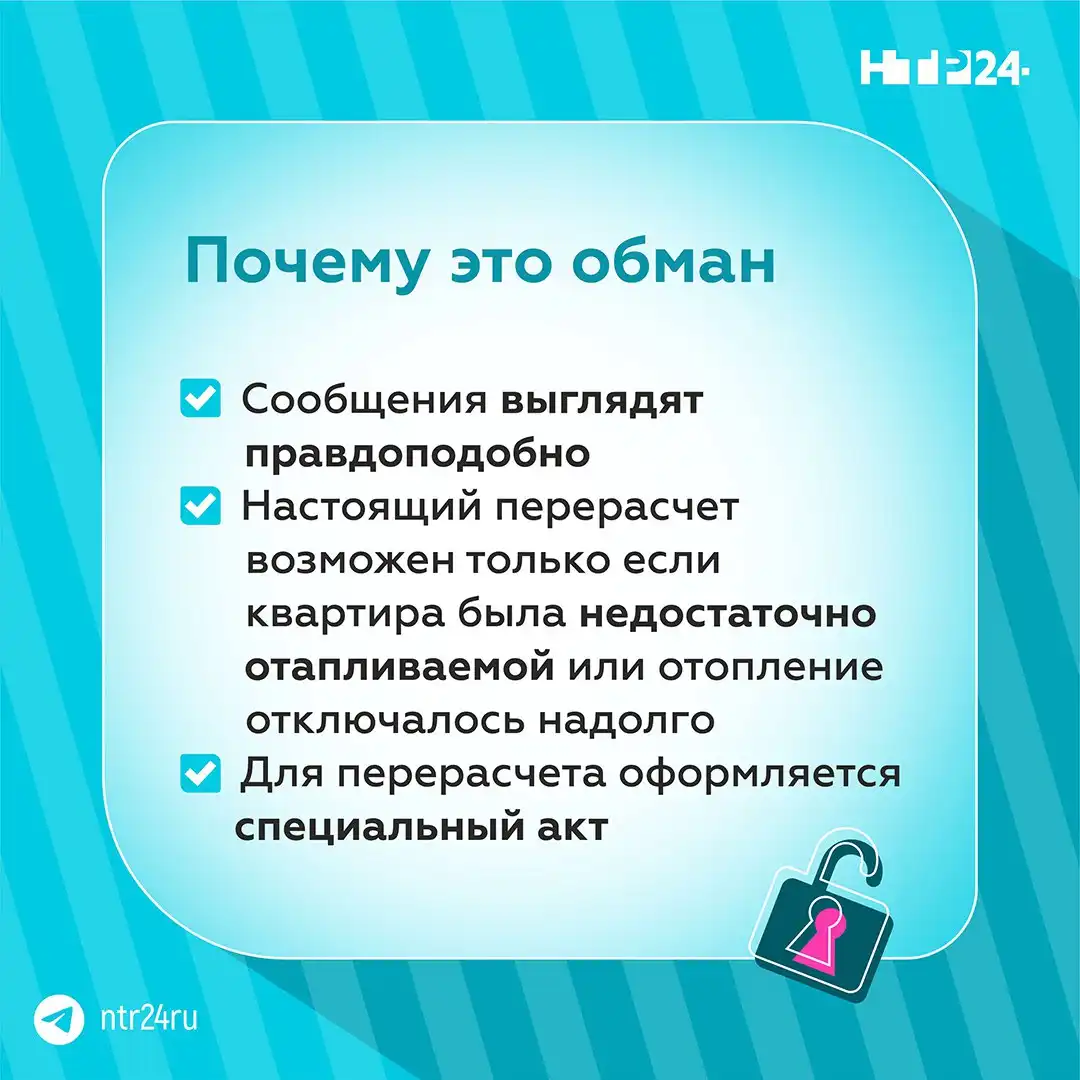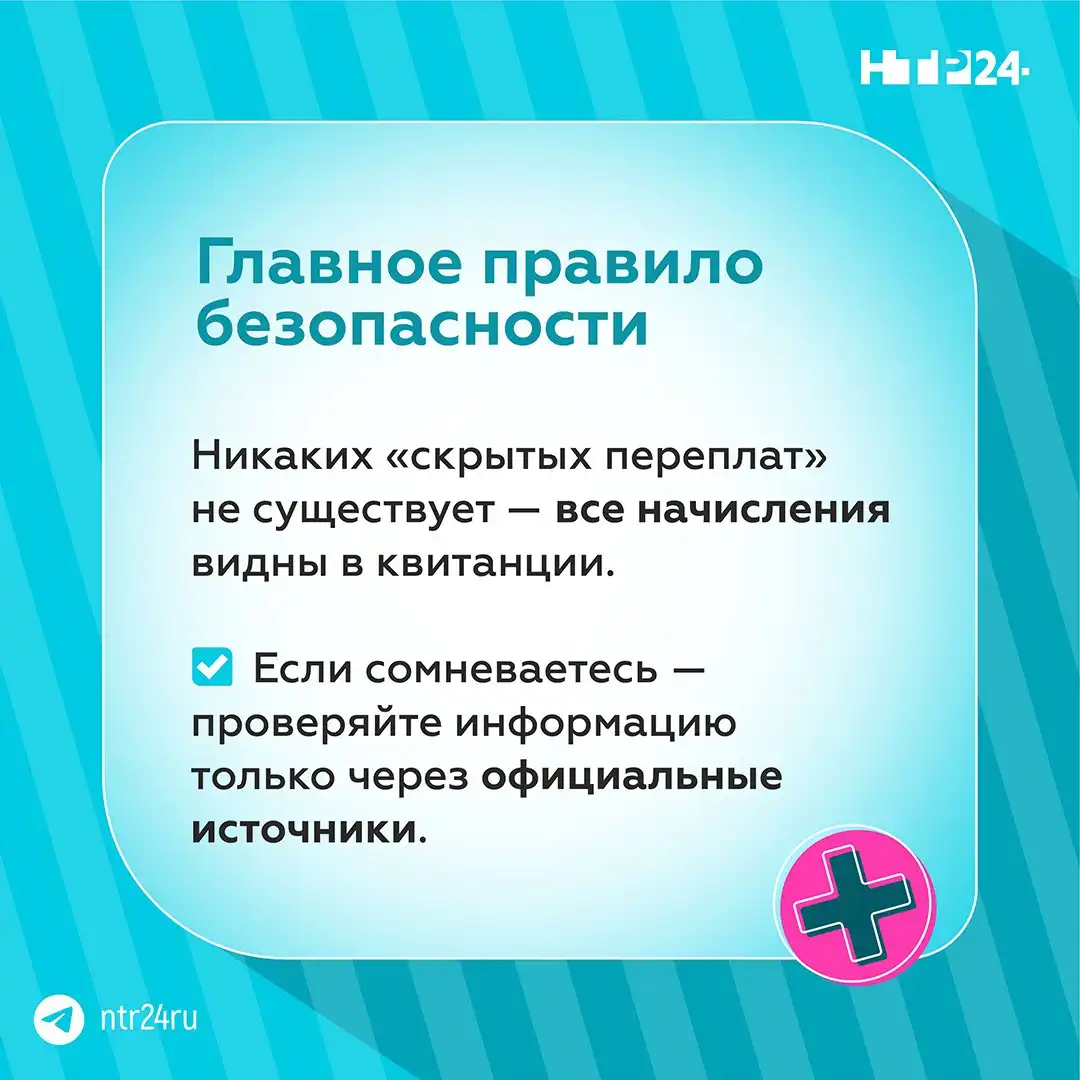Продолжаем цикл рассказов о Великой Отечественной войне, которые написал нижнекамский автор Борис Пермин.
Все они ведутся от лица его родного деда – фронтовика Котлова Фёдора Арсентьевича.
Первое ранение
Первый бой для нашего артиллерийского полка был в ноябре 41 года. За полтора месяца непрерывных боёв изменилось отношение к жизни и смерти – нас пытались убить, и мы убивали…
Всякие смерти видели, но ни одной красивой. Смерть страшна и неказиста. Война отвратительна.
Под Москвой в конце 1941 года зима была морозная и снежная. Бои шли с переменным успехом, мы то в обороне, то наступаем. В полку большие потери, не у каждой пушки полный расчёт, и пополнять некем. Выдалось затишье, окапываемся. Земля – как камень.
Меняем позиции, вновь окапываемся. Немец правее наших позиций прорвал оборону танками, наш полк, уже неполным составом, попал в окружение. С боем выходим из окружения. Ночной бой. Ставлю пушку возле подбитого немецкого танка. Приказ – вести огонь на подавление огневых точек осколочно-фугасными снарядами, быть готовыми применить бронебойные в случае появления бронетехники у немцев.
Подошел комбат, спросил, как дела, и, кряхтя, забрался под подбитый танк. Я справа у нашей сорокапятки, наблюдаю – вдруг танки пойдут.
Осветительные ракеты противника, вспыхивающие временами в небе, помогают наблюдать за полем боя. Каждый занят своим делом. Наводчик Макаров ведёт огонь прямой наводкой по пулемётам врага.

Вдруг сильный удар в спину, будто мёрзлым комом земли от взрыва снаряда. Правая лопатка онемела, словно отсохла, что-то теплое потекло по спине. Никак ранение! Встаю, иду к комбату, благо он рядом, тот нехотя вылезает из-под танка.
– Чего тебе, Котлов?
– Посмотри там на спине, вроде ранен я.
Задрав мне полушубок, он шарит рукой по моей спине, молчит.
Над нами вспыхивает осветительная ракета, я сбрасываю верхнюю одежду, кричу ему: «Смотри!».
– Ой, да тут дырища! Чо я тут? Ничем не забинтовать! – сказал комбат и полез под танк.
Я в сердцах пнул его по толстой заднице. Задница зашевелилась и отползла глубже под танк. А я пошёл к своей пушке, к Макарову. Наводчик мой и старый друг быстро сообразил, что делать: вместе с заряжающим нарезали всякого тряпья с убитых солдат, напичкали всё под полушубок, пока на моей спине не появился заметный горб. Поверх полушубка придавили горб где ремнями, где верёвками крест- накрест, как пулемётными лентами, чтобы тряпичный горб давил на рану, но не сползал вниз.
– Ну как, Фёдор Арсентьевич, идти сможешь?
– Смогу тихонько.
– Ну и шагай вон на те огни, там деревня, три дома в деревушке догорают, но есть и целёхонькие, километра три до них, дойдёшь. А тут тебе нельзя, кровь потерял, замерзать начнёшь, считай – каюк! И я пошёл, временами не понимая, где я нахожусь, куда, зачем иду.
Перед деревушкой речушка, мостик. Из-под моста слышу голос:
– Кто идёт?!
Отвечаю:
– Раненый красноармеец Котлов, а вы кто?
– Разведка! Иди во второй дом, там санитарный пункт.
Подошёл к первому догоревшему дому, погрелся у тлеющих головешек. Зашёл во второй дом, там меня встретила совсем юная девочка с красным крестом на рукаве. Сказал ей, что я ранен, она запричитала:
– Ой, дяденька, перевязывать нечем! У меня тут раненые мрут, а помочь нечем, вон глядите-ка…
И открыла дверь в большую комнату. А там лежат кто на полу, кто друг на друге раненые и уже умершие солдаты, стоны умирающих на двух языках – немецком и русском. Девочка пояснила:
– Тут санпункт был то наш, то немецкий, а теперь я одна тут, а они умирают, я только воды попить им даю. А вы идите, дальше есть дом, там наши…
И я пошёл дальше. Вижу, дом добротный стоит, крыльцо высокое. Не заперто, вхожу в комнату, за столом сидят бойцы, чего- то жуют.
– А, раненый Котлов! – говорит тот же голос, что из-под моста. – Хозяйка, тут боец раненый, перевязать бы.
Входит девочка школьного возраста.
– Что у вас, дядечка?
Раздеться мне помогают разведчики, развязывая узлы на верёвках.
Шутят: вот, мол, и горбатых лечим! Был горб – и нету! Девушка замечает, что вошла пуля в грудь под ключицу, а вышла под лопаткой.
Бойцы решают: разрывная пуля была, удивляются, как жив остался.
Появился тщедушный старый, весь седой дедушка, видимо, хозяин дома.
Внучка к нему с причитаниями: мол, нельзя тебе сюда! Дед подходит ближе…и падает в обморок… Внучка ругается, говорит: «Нельзя же тебе! Он ведь крови боится, палец порежешь – и он в обморок, а тут кровищи!» – оправдывается она, даёт дедушке понюхать нашатыря, и дед приходит в себя...
Удивился я: надо же, война, кровь кругом, очерствели уж, кажется, все, и девочка рвёт простыни, затыкает дыру кровавую в моей спине, а вот её дедушка на войне живёт – и вдруг крови боится…
Забинтовали меня, усадили за стол, покормили и даже сто грамм заставили выпить. Уложили спать на тёплой печке. Спасибо, люди добрые!
Утром проснулся я от боли и яркого света. Светило солнце в окна дома. Болела рана, и нынче сильней, чем вчера.
Хозяин дома доложил, что канонада отдалилась. На дворе мороз и солнце, надо идти войну догонять. Стал одеваться, не найду перчатки свои – трофейные были перчатки, немецкие, меховые, офицерские, уж больно тёплые. Вот ведь помню, в карманы полушубка положил. Ан нету!
И разведчиков уже нету, до свету ушли, доложил дедушка. Зато пара перчаток – наши трёхпалки – лежат на полу возле печки. Ох, разведка!
Взял их, поблагодарил хозяев, в дорогу получил три сухаря.
Иду на войну, легко иду, боя не слышно, вышел на дорогу. Догоняет меня подвода, гружённая снарядами, возница подсаживает. Вдвоём сподручней, он даёт закурить, расспрашивает – кто, откуда. Делюсь с ним сухарями, и вроде боль утихает, а жизнь продолжается.
В медсанбате ранение признали тяжёлым, отправили в госпиталь. Подлечили меня там быстро, на спине углубление осталось в виде воронки, затянутой нежной розовой кожицей, на память, видимо...
Вместо дырявых выдали мне новенькие гимнастёрку и полушубок. И прибыл я в свой полк, воевать дальше. Начинался 1942 год.